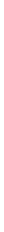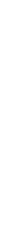ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ БИЦИЛЛИ
Гоголь и Чехов: Проблема классического искусства
Писать о них по тому поводу, что их юбилеи совпали, значит идти на риск, что у читателя возникнет подозрение: не будет ли ему поднесено нечто похожее на гимназическое сочинение вроде: «Параллель между Плюшкиным и Базаровым». Однако я должен сказать, что в моем сознании эти два имени сочетались давно уже в связи с основной проблемой теории искусства вообще, в частности — литературоведения. Ни по размерам, ни по свойствам дарований Гоголь и Чехов не могут быть сравниваемы. Это слишком очевидно. И все же: есть нечто общее в нашем восприятии их. Оно состоит в том, что, сколько бы мы их ни перечитывали, мы никогда не воспринимаем в них ничего, что бы ощущалось непосредственно, как «прием», как «манера», т. е., в сущности, как некоторая гримаса, ужимка,— хотя, разумеется, путем литературного анализа можно выделить то, что составляет «манеру» Гоголя или «манеру» Чехова. В этом смысле не будет преувеличением сказать, что их можно перечитывать постоянно,— из чего, впрочем, еще далеко не следует, что при таком перечитывании оба они в одинаковой степени сохранили бы свою способность воздействовать на нас. «Нет человека, от которого не следовало бы отдохнуть»,— сказал как-то Чехов. Это приложимо, говоря вообще, и к человеческим созданиям, — даже к величайшим, ценнейшим, значительнейшим. От одних отдыхать приходится потому, что при чересчур частом восприятии притупляется впечатление; от других, напротив, потому, что личность творца начинает нас подавлять собою. В обоих случаях действует закон ритмики духовной жизни, но — по-разному. Чехов может служить примером первого случая. Примером второго — любой из истинно великих писателей, из «вечных спутников» человечества, Данте, Шекспир, Гёте, Достоевский, Толстой. Гоголь и Пушкин в литературе составляют исключение из этого общего правила,— как Моцарт в музыке. Кажется, Лист сказал, что Бетховен — величайший, т. е. значительнейший, композитор, а Моцарт — совершеннейший. Понятие значительности и совершенства не исключают друг друга, но и не совпадают. Степенью значительности отнюдь не определяется степень художественного совершенства — и обратно. Гоголь, в своих даже совершеннейших вещах, не внес ничего нового в познание человека и жизни, не обогатил с этой точки зрения ничем духовного опыта человечества. Изобразитель человеческой пошлости, т. е. бездуховности, бездушности, животности, психического автоматизма, Гоголь шел по .следам великих представителей классической комедии и классического романа. В пошлом человеке он не увидел ничего нового по сравнению с тем, что увидели в нем Плавт, Боккаччо, Макиавелли, Мольер, Бен Джонсон; но он показал его так, с такою смелостью, такой остротой, такой силой вчуствования в его «идею», в обусловленный этой «идеей» его «стиль», изобрел такие способы внушения нам этого стиля, усвоив себе самому его бессмысленность (например, в рассказе о «занятиях», в которых «упражнялся» Иван Федорович Шпонька в свободное время, или в «Мертвых душах», когда он говорит о том, какими любителями чтения были жители губернского города и что они читали, заканчивая это словами: «кто даже ничего не читал»), как никто и никогда до него. Ничего подобного плюшкинской куче, или «диалогу» Ивана Федоровича Шпоньки с дочкою Сторченки («Летом очень много мух, сударыня...»), или его переписке с тетушкой, или началу «Повести о [том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем]» («Славная бекеша у Ивана Ивановича...»), или разговору Ив[ана] Ив[ановича] с нищей старухой («...что же ты стоишь? Ведь я тебя не бью»), или отзыву Собакевича о прокуроре, нет ни у одного из самых великих его предшественников. А ведь в «Мертвых душах» (в 1-й части), в «Женитьбе», в «Ревизоре», в «Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке]», в «Коляске», в «Повести [...]», все сплошь так: нет ни одного пустого места, ни одной «нейтральной» словесной формулы, ничего внекомического, лишенного художественной необходимости,— как это встречается даже у Сервантеса; нет буквально ни одного слова, которое можно было бы заменить другим, ни одной черточки, которая бы не содействовала созданию каждый раз совершенно нового, единственного и, сколько бы раз мы ни читали,— неожиданного комического эффекта. Неожиданного — потому что непонятного, не поддающегося анализу, как все, что обладает предельным» абсолютным совершенством. Нет ничего, что можно было бы отвлечь, отнести на счет «приема», свойственного избранному художественному «жанру». В моей статье «Гоголь и классическая комедия» («Числа», № 10) я постарался показать, как Гоголь использовал по-новому совершенно, казалось бы, устарелые, обветшалые, давно уже ощущаемые как «приемы» черты классической манеры, сделав их чертами своего стиля, т. е. приведя их во внутренне необходимое соответствие со своей художественной идеей, отвечающей всецело, со своей стороны, его видению жизни.
Если не ошибаюсь, Брюсов был первым, кто заметил, что, говоря о «высоких предметах», о прекрасном, величественном, благородном, Гоголь пользовался теми же самыми средствами выражения, что и тогда, когда он изображал низкое, уродливое, комическое. И каждый раз получалось только обнажение приемов собственного стиля, единственный пример того, что можно было бы назвать пародией наизнанку, пародией пародии как таковой; ибо сущность пародии, говоря вообще, состоит в использовании приемов, какими принято изображать «высокое», для изображения «низкого»: несоответствие тона и предмета вскрывает «приемы», из которых создает тон и заставляет воспринимать уже их самих комически. Гоголевская же «пародия на изнанку» такого рода, что она оказывается убийственной не для его искусства, а для предметов последнего. Добродетельный губернатор, идеальная Улинька, прекрасная Аннунциата, чудный Днепр, который лишь редкая птица может перелететь, излюбленный авторами хрестоматий и учителями словесности, отвратительны, внутренне порочны своей чрезмерностью, безмерностью,— тем, что составляет сущность всего, что порочно, карикатурно. Гоголевское искусство, прекрасное в изображении отвратительного, в силу полного соответствия здесь сущности приемов с сущностью изображаемого, отвратительно в изображении прекрасного. Прекрасное в искусстве и прекрасное в жизни — не одно и то же. Прекрасное в жизни не было открыто Гоголю в его духовном опыте, сколь он ни стремился к этому, и он представлял себе его структуру по аналогии со структурой безобразного, отвратительного, т. е. не как совершенное, но как безмерное; «романтически», а не «классически».
В записных книжках Блока есть замечание, что Гоголь «любил Чичикова», как все писатели любят своих «героев», даже отрицательных. Не знаю, так ли это. Во всяком случае, мы, читатели, не можем никак «полюбить» Чичикова. Чичиков, Плюшкин, Хлестаков, Ноздрев, Подколесин так же условные, комические, «типы», как Гарпагон или Тартюф. Магией гоголевского искусства они оживотворены настолько, что их духовная чудовищность не кажется нам неправдоподобной, ибо в них все, до мельчайшей черточки, типично, все согласовано. Но эта жизненность их, эта органичность — органичность художественного произведения, а не настоящего человеческого существа. Потому-то мы в состоянии наслаждаться ими. В противном случае, если бы мы поверили в них, приняли бы их за живых людей, они были бы невыносимы. Можно в сотый раз перечитывать «Войну и мир» и так и не заметить, в чем состоит искусство Толстого,— ибо роман Толстого для нас не литературное произведение, а самый настоящий «кусок жизни», в который мы сами втягиваемся так, что «Война и мир» уже не может быть для нас объектом эстетического восприятия. Искусство же Гоголя — подлинно «чистое искусство», для которого жизнь всего лишь «материал». Именно потому, что в обыкновенной, повседневной жизни Гоголь видел только пошлость, убожество, бессмыслие, он и мог распорядиться ею столь бесцеремонно, беспощадно,— условие, необходимое для того, чтобы произведение повествовательной 'литературы воспринималось так, как соната Моцарта или как Парфенон,— произведения, относящиеся к тем видам искусства, где материал и средства — одно и то же,— в отличие от литературы и живописи. Опять-таки, для историка литературы или для критика безразлично то, что Гоголь не хотел быть «чистым художником», как, например, Флобер, а мечтал быть учителем жизни, пророком (это очень важно — но с точки зрения биографа или историка культуры); для нас сейчас имеет значение только результат: ряд произведений, которым по художественному совершенству почти нет равных в. мировой литературе.
Но тогда — мыслимо ли сопоставлять с Гоголем Чехова? И как объяснить, что и Чехова мы в состоянии перечитывать,— я говорю о немногих, лучших его вещах — постоянно. Слишком очевидно, что наше восприятие Чехова совершенно не такого рода, что и восприятие Гоголя; скорее оно напоминает наше восприятие Толстого. Но и тут необходимы ограничения и оговорки. Толстой — «вечный спутник». Гоголь тоже «вне времени» как величайший «чистый художник». А Чехов? Ясно, что когда я говорю, что мы в состоянии перечитывать Чехова, я говорю именно о нас, людях современной культурной полосы, между тем как под «нами», читателями Гоголя,— и Толстого,— следует разуметь людей вообще, вне рамок пространства и времени. Однако и при такой оговорке вопрос остается открытым. К тому же он еще и усложняется, если примем во внимание следующее: Чеховские персонажи в бытовом отношении ведь ближе к нам, нежели толстовские (я имею в виду прежде всего «Войну и мир»), но сами по себе они несравненно дальше отстоят от нас: все эти его «хмурые люди», застенчивые и нерешительные земские статистики и земские врачи попросту скучны. Дело, следовательно, не в самой той жизни, с ее специфическими особенностями, которую изображает Чехов,— и не в том •как, с чисто эстетической точки зрения он ее изображает,, а в том, как он ее видит. Попытаюсь объяснить, как, с этой точки зрения, возможно все-таки сопоставление этих двух, казалось бы, несоизмеримых величин. Но для этого требуется краткое отступление.
Гоголь — величайший изобразитель людской пошлости в ее, так сказать, общечеловеческом аспекте. Чтобы понять Плюшкина, не нужно быть непременно русским, как и для того, чтобы понять Гарпагона — французом. Но есть и другой аспект пошлости — национальный. У каждого народа есть свой особый, ему одному присущий оттенок пошлости. Пошлость же в жизни то самое, что «прием» в искусстве, то, что поддается пародии. И историкам культуры следовало бы пользоваться методом, выработанным историей искусства: подобно тому, как изучение манеры «эпигонов», утрирующих, обнажающих художественные приемы, подводит к пониманию художественных стилей, так сравнительное исследование различных видов пошлости — французской, немецкой, русской, английской — пролило бы свет на сущность того, что принято называть «душою» каждого данного народа. Поскольку же эта «душа» отражает себя прежде всего в языке, полезно начинать именно с него — в особенности, когда дело идет о народах, чьи языки еще не достигли той стадии рационализации, когда язык уже .перестает быть «зеркалом души» (народной). В этом отношении русский язык говорит историку культуры об очень многом — одной своей чертой. Есть языки, для которых характерно легкое образование «уменьшительных» — ласкательных или уничижительных — слов, например, итальянский, испанский, все славянские языки. Но ни в одном языке это явление не играет такой роли, как в русском. Прочие языки этой категории довольствуются главным образом уменьшительными именами. Русский же допускает образование уменьшительных прилагательных (в итальянском это тоже бывает, но редко),, и притом любого значения, даже порицательного — гаденький, подленький, гнусненький; даже глаголов — такие глаголы, как похаживать, попрыгивать, постукивать и проч., только по форме итеративные, на самом деле — такие же «уменьшительные», как и призанять (деньжонок); даже наречий: нистолечко, ничегошеньки, чуточку, немножечко, помаленьку; даже междометий: ох-хо-хошеньки. Главное — чрезвычайная распространенность такого рода слов. Это стоит в несомненной связи с русской женственностью, душевностью, чуткостью, с православным умонастроением, но также и с кое-чем другим: с русским бессознательно-лицемерным, безответственным, прекраснодушием, с русским юродствованием, с русским вкусом к самоуничижению, самоумалению, с рабьей психологией. Этическая двусмысленность этой особенности русского языка сказалась в том, например, что обилие уменьшительных словечек составляет характернейшую чертукак поэтического языка Некрасова, так и речи щедринского Иудушки (одно это имя, непередаваемое ни на каком другом языке, чего стоит!) и гаденького старичка в одном из чеховских рассказов, говорящего «казенненькое довольствьице» и т. п.
Вот почему на русской почве привилось как нигде и дало такие обильные плоды занесенное с Запада семя романтизма с его разрастанием душевности за счет духовности, с его ниспровержением иерархии духовных ценностей и, в силу этого, парадоксальным убыванием понимания, в чем состоит человеческое достоинство, вместе с гипертрофией «Я» и распространением гуманитарных идей.
Для проверки сказанного достаточен один пример, говорящий больше, чем все остальные взятые вместе, — пример Достоевского, прошедшего все стадии романтического индивидуализма и гуманизма, «воспитанного, по его собственным словам, на» Карамзине», переболевшего жорж-сандизмом и фурьеризмом, пережившего всю проблематику европейской культуры с такой страстностью, такой напряженностью и остротою мысли, с такой глубиной, как никто, предвосхитившего и оставившего за собою Ницше, и, наконец, использовав все, чем романтизм обогатил культуру, преодолевшего то, что является коренным, основным пороком романтической культуры — игнорирование иерархического строения духа, примата «мы» над «я», с одной стороны, пневматического начала над психическим ~ с другой. Но это преодоление — было ли оно полными окончательным? Удалось ли Достоевскому вытравить в себе без остатка все то, что он возненавидел в себе? Здесь решающим показателем является одно: величайший писатель нашего времени, Достоевский, в известном отношении делит участь писателей второстепенных: он поддается пародии, предметом которой служит все то, что так или иначе нарушает порядок, стройность, целесообразность, осмысленность, все, что выпячивается, лезет в глаза, всякое излишество, всякая чрезмерность, ощущаемые в жизни и в искусстве, как фальшь, ложь, бесстильность, бестактность. Доказательство привести нетрудно: гениальнейший пародист, Достоевский, бессознательно, то и дело пародировал самого себя: в самых вдохновенных местах его величайших творений звучат порой нестерпимо фальшивые ноты, словно ворвавшиеся туда из «Неточки Незвановой» или из «Дневника писателя»; могучую речь пророка вдруг перебивает голос юбилейного оратора или карамзинистского «чувствительного человека» — и притом так, что все-таки мы воспринимаем эту фальшь, в которой он вполне искренен, не как нечто чуждое целому, постороннее, как вставки переписчиков в гомеровских поэмах, но как безусловно принадлежащее самому Достоевскому, как столь же характерное для него, что и все прочее, одним словом — как пародию на его собственный стиль, как издевательство над его собственной личностью, как карикатуру его собственного облика.
Я не знаю, существует ли какой-нибудь инструмент для измерения степеней талантливости и не знаю, насколько превосходил Чехов в этом отношении иных из современных ему беллетристов; я не знаю также, насколько правильна оценка, данная им, устами Тригорина, себе самому: «хороший был писатель, но писал хуже Тургенева». С Достоевским он во всяком случае несоизмерим. Но одно мне представляется бесспорным: Достоевский может быть пародируем. Тургенев тоже — это доказал Достоевский, пародировавший не только Тургенева-человека (как он пародировал человека-Гоголя), но и Тургенева-писателя. Чехов же безусловно нет. Не все у Чехова удачно, иное вяло, серовато, недоделано; но нигде нет у него ничего, что бы воспринималось как самолюбование, самовыпячивание или же как фальшь, как кокетничанье, как позировка; и нигде нет у него ни тени сентиментальности, прекраснодушия, наигранной взволнованности, раздражающей приподнятости настроения. Натуре Чехова были совершенно чужды те свойства романтической пошлости, которые процветали в России столь пышно и столь усердно культивировались, что именно они стали выдаваться за специфические свойства «русской души». В свое время Чехов был единственным, с необычайной зоркостью увидевшим русскую пошлость и высмеивавшим ее, как все, что он делал,— как бы вскользь, без подчеркиваний — в обращении к «дорогому, многоуважаемому шкалу», в воспроизведении речи «идейной» девицы («...вы, кажется, начинаете исповедывать принципы Третьего Отделения...»), в особенности в ряде мест своих писем. Г. Адамович недавно писал об од ной. драгоценной черте Чехова — его человечности, считая эту черту характерною для его, Чехова, времени. Необходимо, однако, отметить, что чеховская человечность очень далека от навязчивого, притязательного, неделикатного, самодовольного человеколюбия эпохи романтического гуманизма. Чеховская человечность — это снисходительно-сострадательное отношение ко всему живому с необходимо присущим такому отношению оттенком юмора,— как у Сервантеса, Фильдинга, Пушкина; между тем как, вообще говоря, юмор в XIX веке исчез почти бесследно, заменившись романтической «иронией», или плебейским глумлением. В Чехове дорого нам прежде всего то, что, будучи нашим современником, он был свободен от главных слабостей нашего века. Во всех отношениях был он тем, что в эпоху классической культуры определялось термином un honnete homme, что всего правильнее было бы перевести «порядочный человек», понимая это слово в его буквальном, еще не стершемся значении, каким оно стало в эпоху, зачавшуюся под знаками «Эмиля», «Рэнэ», и «Чайльд-Гарольда», возведшую духовный беспорядок в предмет культа. Порядочность. Чехова сказалась в его сдержанности, осторожности, тактичности, сознании ответственности, с какими он подходил и к человеку, и к так называемым «вопросам»,— благодаря чему он и заслужил от идеологов репутацию «писателя без мировоззрения» — и какими определилось и его писательское искусство, направлявшееся основным правилом его поэтики: если в рассказе упоминается о ружье, оно должно рано или поздно выстрелить,— формула, кроющая в себе, как в зеркале, всю философию классического, т. е. честного, порядочного, ответственного искусства. Ибо выдержка, самообладание, способность к самоограничению, чувство меры — все это вместе суть проявления одной общей духовной тенденции — к совершенству, которой противостоит романтическая тяга к бесконечному. Но одно — тенденция, другое — осуществление. Остается все-таки вопрос: можно ли назвать Чехова-писателя классиком,— не в общепринятом смысле, не в смысле просто значительного, хорошего писателя, которого следует «проходить» в гимназиях и иметь в библиотеках, но в том, как усвоен этот термин в литературоведении? Есть ли у Чехова вещи, которые можно было бы назвать совершенными или, по крайней мере, близкими к совершенству — опять-таки в строгом смысле слова, т. е. такие, которые были бы построены, в которых все было бы согласовано, объединено внутренне необходимой связью?
Стоит хоть немного вдуматься в этот вопрос — и становится ясно, сколь условны, сколь шатки наши эстетические критерии и сколь сложно наше восприятие эстетических ценностей, и сколь поэтому, в сущности, неудовлетворительны, приблизительны, грубы такие категории, как хотя бы категория художественной литературы. Дело в том, что есть произведения, воздействующие на нас сами по себе, и есть такие, очарование которых в том, что они вводят нас в общение с автором, которых роль — служить посредниками между нами и им которые нам дороги тем, что благодаря им мы узнали его. Это их качество вовсе не определяет собою степень их эстетической ценности: иные удовлетворяют только одному из этих требований, другие — обоим. С чисто художественной точки зрения просто смешно сопоставлять произведения, скажем, Альфреда де Виньи с «Евгением Онегиным», «Капитанской дочкой» или «Дон-Кихотом». Общее у них все же то, что они делают для нас бессмертными людей исключительного ума и душевного благородства, познакомившись с которыми мы уже не в силах себе представить, что мир мог бы существовать без них, что, не будь их, мы могли бы быть тем, что мы есть. Но «Мертвые души» для нас самодовлеющая художественная ценность, обладающая абсолютной необходимостью, тогда как жуткий человек, изображенный в бунинском «Жилете Гоголя», для нас словно бы никогда не существовал. Что касается Чехова, то все его вещи, кроме одной, представляются мне, повторяю, ценными преимущественно тем, что в них отражена его личность, определившая собою его художественный метод. Я бы сопоставил их с второстепенными созданиями великих классиков музыки, Моцарта или Гайдна. В них не заключено абсолютно значительных откровений Духа: они могли бы и не быть написаны и они далеки от формального совершенства. Но в них нет ничего, от чего бы нас коробило, эстетически или морально, ничего сказанного некстати, ни одного слова, которое хотелось бы, чтобы не было произнесено — как это встречается у Достоевского, у Тургенева, даже у Толстого (например, в «Воскресении») — и в этом смысле они классичны. Я сказал сейчас: все вещи кроме одной — и это послужит лишним оправданием для сопоставления Чехова с Гоголем и притом отнюдь не только с точки зрения историко-литературной — поскольку эта вещь, «Степь», составлена отчасти из материала, заимствованного Чеховым из «Мертвых душ» и «Тараса Бульбы»,— но также и имея в виду ту проблему, о которой я сказал выше: проблему классического, т, е. совершенного искусства. С традиционным мотивом поездки, неизменно лежавшим в основе классического романа приключений, Чехов, взявши его у Гоголя, сделал приблизительно то, что Гоголь сделал с традиционными мотивами «интриги» классической комедии: у Чехова этот мотив служит совсем не для того, для чего он служит у Сервантеса, у Скаррона, у Фильдинга, у Гоголя: основанием для нанизывания эпизодов, друг с другом не связанных, но забавных, характерных, так или иначе значительных сами по себе, важных для понимания личности и судьбы героев. Таких эпизодов у Чехова нет, как нет и «героев». Дорожные события показаны так, как их видит Егорушка, еще неличность, еще tabula rasa[1], воспринимающий все, как одинаково новое, невиданное, и ничего не объединяющий в своем сознании. Здесь все случайно, нет никаких «сцеплений» отдельных эпизодов, обусловливаемых «сюжетом», который отсутствует,— и все необходимо, все на своем месте с точки зрения требований ритма, отмечаемого сменами дня и ночи, погоды и непогоды, встречами, остановками, дорожными, развлечениями и дорожными неприятностями. Степной путь сам стал таким образом, «героем», главным объектом повествования. Так, гениально обративши отношение между «мотивом» и «содержанием», Чехов разрешил задачу, которую,— мы знаем об этом из его переписки,— он сознательно поставил себе: «спрессовать» весь свой материал так, чтобы из элементов «пейзажа» и «жанра» получилось одно целое. Люди, едущие по дороге, в такой же степени «принадлежат» к ней у Чехова, как одинокий тополь, как ветряная мельница, как родник, близ которого они делают привал. В прозаическом произведении, где материалом художественной разработки служит не человек, а предмет сам по себе, так сказать, нейтральный, «лирические отступления», которыми автор прерывает нить повествования, столь же художественно оправданы, как и в романе в стихах или в поэме Ренессанса, как в «Евгении Онегине», в «Неистовом Роланде», где таким материалом является ритмическая единица — строфа. В «Степи» осуществлен классический идеал искусства — единства в многообразии, органичной целостности, внутренней оправданности каждой мелочи, законченности, завершенности,— совершенства. «Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Чехова»,— восклицал, парафразируя Гоголя, Михайловский,— и в то же время, смешивая понятия совершенства и значительности, недоумевал: к чему это искусство? Что хотел сказать автор? В чем идея, каков смысл этой повести? Но произведение совершенное, то есть законченное, в том смысле, что художественная идея его творца нашла себе в нем окончательное выражение, существует в гегелевском значении этого слова: оно разумно, то есть не нуждается в осмыслении извне. Самый факт его существования говорит о его метафизической необходимости, и его форма содержит в себе его собственный, неповторимый смысл. И Гоголя, в те моменты, когда его самомнение сменялось приступами разочарования в себе, мучила мысль, что он недостойным образом расходует свой дар, изображая ничтожное, убогое, смешное, «бедность и несовершенство нашей жизни»; и он старался найти оправдание этому. Но к классическим, совершенным, «существующим» созданиям человеческого творчества приложимо то, что сказал Чехов по поводу одного из своих героев, которого смущал вопрос, так ли он живет, как надо: он не знал, «что его жизнь мало нуждается в оправдании, как и всякая другая».
Печатается по: Современные записки. — 1934. — № 56. — С.298-308.
[1] Нечто нетронутое (букв.: чистая доска) (лат.).
|