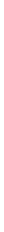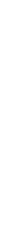БОРАТЫНСКИЙ
Внешность обманчива; по внешности судить не следует. Но если мы что-то знаем о «внутреннем мире» человека, о его творческой сущности, то ее: «отображение» можно уловить во внешнем облике. «Внешнее» в какой-то степени отражает «внутреннее», которое и должно быть критерием.
Лицо Боратынского кажется обезображенным беспощадной мыслью. Создается впечатление, что мысль изъела, обглодала его чуть ли не до кости и обнаружила ту жестокую анатомическую правду, которая обычно искусно прячется под живой «маской» кожного покрова. Правда эта - ужасная правда черепа, едва прикрытого плотью на скульптурном изображении: глазницы впалые, нос вогнутый, выпирают надбровные дуги высокого отлогого лба. Но это френологически-откровенное лицо не ужасно, хотя и безобразно: оно правдиво, оно человечно, а не бесчеловечно, подобно неандертальской личине роденовского мыслителя. Великий Роден не чета скромному, забытому ваятелю-классику, но несомненно, что этот последний лучше всех других современных ему живописцев, писавших портреты Боратынского в манере якобы лестной для оригинала, угадал и передал и природу, и духовную сущность его лица, очень некрасивого, но привлекающего внимание необыкновенной выразительностью. В ампирной манере начесанные на виски и на лоб пряди и «рогатый» кок очень уж декоративны; но этот французско-римский волосяной убор всё же представляется достойным обрамлением, хотя без взбитого кока можно было бы пожалуй обойтись; классические же начесы дужками как будто даже соответствуют естественному «движению волос», сопротивляющихся зачесыванию назад или вбок, под пробором.
Некрасивое лицо Боратынского смягчается нежным сложением рта. Нижняя губа - чувственно-припухлая. О глазах по скульптуре судить, конечно, нельзя, а на портретах, равно неудачны в остальном, выражение глаз как будто схвачено верно: они или полуприкрыты тяжелыми веками или «завешаны» тусклым равнодушием - едва ли напускным: это скорее всего естественная самозащита от чужого праздного любопытства.
Внешностью своей Боратынский не прельщал, но сам многим прельщался. «Страсти кипели» в нем; он страстно мыслил, упивался мыслью, и вместе с тем, отлично владел собою. Интеллект обезобразил его внешность, но не «испортил»: любовник его обличию не позавидует, но мыслитель мог бы им гордиться.
За Боратынским установилась репутация поэта интеллектуального. Пушкин писал о нем: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы и оригинален и везде, ибо мыслит по своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко»[1]. Также и Гоголь находит у него «самобытное стремление мыслей к миру внутреннему»[2], однако, замечает, что он «стал заботиться о материальной отделке их (мыслей), тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя высказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким». Последнее суждение кажется пристрастным и объясняется не тем ли, что Гоголю Боратынский был не близок и чужд: его сомнения и высказываемые им горькие истины не могли не отталкивать Гоголя, уже религиозно обращенного в эпоху писания известных писем.
Мышление Боратынского - аналитическое (по определению Вяземского), отчасти может быть картезианское. На выводах своих он никогда не настаивает: этим он отличается не только от современных ему шеллингианцев и гегельянцев, но пожалуй и от многих позднейших русских мыслителей, склонных к идеальному синтезу и при атом, к синтезу оптимистическому, раскрывающему положительный смысл жизни. Этого смысла Боратынский не нашел. Но нельзя назвать его и скептиком: кое-что он утверждает. Однако, утверждения его гипотетичны; и гипотез своих за аксиомы он не выдает (как поздние «русские мальчики» — и не у одного лишь Достоевского). В его адогматичности есть мужественное бесстрашие: он не хочет себя тешить непродуманными утешительными утверждениями, диалектически выведенными синтезами.
В.М.Сечкарев в своей ценной работе о философской лирике Боратынского находит у него мотивы шеллингианские. Боратынский Шеллинга едва ли читал, из-за незнания немецкого языка; он мог, однако, познакомиться с ним по книгам Галича, который следовал второразрядным немецким шеллингианцам (Чижевский). Но идеи «носятся в воздухе», и их отголоски улавливаются в беседах; так, он мог что-то слышать о Шеллинге от своего друга Ивана Киреевского. Но очевидно, что ему были по существу чужды широковещательные философские построения германских диалектиков-романтиков, как и славянофильство — немецкое по своим истокам. Он прошел мимо любомудров 20-х г.г., и мимо кружка Станкевича 30-х гг.: все эти германствующие русские юноши-философы его не заинтересовали. Однако романтические темы он разрабатывает (как и Пушкин), но не возносится на высокое романтическое небо, не стремится к непостижимому. И если он и испытывал так называемую «мировую скорбь», то не ведал тех восторженных упований и откровений, которые у настоящих романтиков обычно предшествуют скорби. Из русских поэтов того времени романтиками были по духу, а не по отдельным лишь темам - Жуковский, которому приоткрывалась вечность (в стихах к Маше Протасовой), Кюхельбекер — поэт не «небесный», но по-романтически стремившийся объять необъятное в своих трагедиях, и Веневитинов, воспевавший поэта «с глаголом неба на земле». А «литературная аристократия», хотя и увлекалась разными романтическими темами, но священного романтического восторга не знала и знать не хотела. «Литературные аристократы» - это рассудочный Вяземский (который по недоразумению считался даже идеологом «романтической школы») Дельвиг, Плетнев, Языков, Боратынский. Им чужды были безумные мечтанья Мицкевича или Красинского, Новалиса или Тика, Шелли или даже более рассудочного Байрона, которому они поклонялись.
Для литературоведов южные поэмы Пушкина («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан») или северная поэма Боратынского («Эда») — это романтизм, что и верно. Но это незрелые произведения. К тому же, и Пушкин, и Боратынский были в очень значительной степени определены французским XVIII веком, не его классицизмом, а его рационализмом. Ни тот, ни другой, никогда «не выкидывали из головы» прочтенную еще в отрочестве библиотеку французских книг, хотя оба они уже не идолопоклонствуют перед разумом, как французские просветители, как «царь» Вольтер. Так Боратынский в авторитетности разума постоянно сомневается. Здесь он в значительной степени следует Руссо, которым очень увлекается. Но ведь и Жан-Жак, выступая против всех господствующих доктрин своего времени, остается рационалистом по методам; и возвеличивая чувство (сентимент), больше рассуждает, поучает, чем чувствует, переживает (в «Новой Элоизе», «Эмиле», но не в «Исповеди»). Однако, не могу здесь больше говорить об истоках, корнях мировоззрения Боратынского; но очевидно, что по воспитанию, по культурной ориентации он был «франкофилом», и Руссо ему ближе и понятнее Шеллинга, о котором он знал понаслышке.
Несколько слов о круге идей Боратынского. Далее же я постараюсь уделить больше внимания их художественной функции в его поэзии, что более существенно. Особенно в юности Боратынский часто высказывал мысли атеистические: «И всё умрет со мной!» (1820 г.); «всех чередом поглотит Лета» (1821 г.). Но безверие свое. он хочет преодолеть. В философическом отрывке-диалоге она, обращая его, говорит: «В смиреньи сердца надо верить / И терпеливо ждать конца» (1892 г.); эти стихи по желанию жены были высечены на его надгробном памятнике. Но это не последнее слово Боратынского. В стихотворении на смерть Гёте (1832 г.), и выдвигает две гипотезы, что чрезвычайно характерно для его аналитического, ненавязчивого мышления: 1) если нас «за миром явлений не ждет ничего», то Творца «оправдает» могила великого поэта, объявшего весь мир в своем творчестве 2) если же есть загробная жизнь, то дух его возлетит к Предвечному: «И в небе земное его не смутит».
Очень часто Боратынский говорит о вечности мгновенья: «Не вечный для времен, я вечен для себя... Мгновенье, мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью» (1820 г.); или же: «Познай же цену срочных дней, / Лови пролетное мгновенье» (1820 г.). Имеются у него и образы не. мгновенной, а полной вечности: она «незаходимый день», «несрочная весна»; эта полная вечность дается и со знаком минуса: «В тягость роскошь мне твоя, / О бессмысленная вечность!» (1835 г.). Возможные выводы: 1) есть вечность мгновения; 2) и есть полная вечность, которая может быть и хорошей, и скверной (бессмысленной). Так и здесь проблема постепенно освещается с разных сторон; и соответственным образом высказываются суждения гипотетические, не окончательные: никакого последнего слова Боратынский вообще не сказал, и не мог сказать, ибо рискованные романтические спекуляции были ему глубоко чужды (как и дешевый скептицизм). Примеров, подтверждающих аналитический и гипотетический характер мышления Боратынского, можно найти очень много. Смерть его то ужасает, то манит своей «светозарной красой». Также и жизнь: она бессмысленна, люди рабы рока (этот античный мотив часто повторяется), но есть и счастье: шумное в кругу семейном или в уединении. Всё вообще оборачивается то темной, то светлой стороной:
Две области — сияния и тьмы -
Исследовать равно стремимся мы. (1839 г.).
И эти «мы» — не любые... Это едва ли «мы, русские», - всегда скорее неуравновешенные, а «мы» эпохи ампира - Боратынский, Пушкин, Вяземский, Дельвиг... но уже не Гоголь, не славянофилы и западники (за исключением Герцена): ибо все они стремились «снять противоречия» и горькой многосторонней истине предпочитали истину одностороннюю, приятно утешительную (синтетическую).
Кажется, Боратынский-мыслитель проявил наибольшую самобытность в своем истолковании будущего человечества, в «Последней смерти»[3], 1827 г. Стихотворение это в наше время очень актуально и могло бы произвести впечатление на Западе. Мы, в ХХ веке, боимся превращения людей в роботов тоталитарного царства государства («Республика Южного Креста» Брюсова, «Мы» Замятина, «Рур» Чапека, «1984» Орвелла). Но остается реальностью и этот вариант грядущего, данный Боратынским. В эпоху когда лишь начали прокладывать железные дороги (в наше время уже «вымирающие!»), он уже предугадывает фантастические достижения современной техники: вот уже человек «рассекает (небесные долины по прихоти им вымышленных крыл»; самый климат подчиняется его воле; наступает золотой век мира и просвещения. Но проходят столетия; и картина меняется: мы видим каких-то интеллектуальных выродков, декадентов:
И умственной природе уступила
Телесная природа между них;
Их в Эмпирей и в Хаос уносила
Живая мысль на крылиях своих.
Но по земле с трудом они ступали
И браки их бесплодны пребывали.
Разве это не возможно? И эти поэтичные дегенераты почти столь же ужасны, как и прозаические роботы. Опять проходят века; человечество окончательно вымирает: «И в дикую порфиру древних лет / Державная природа облачилась»[4].
Как понимал Боратынский поэзию? И здесь он анализирует «феномен» с разных точек зрения. Поэзия покупается «сердечных судорог ценою»; и она может быть губительной для поэта: кого любят Камены, того не любит Фортуна (к этой теме я еще вернусь). Но поэзия также и исцеляет: «Болящий дух врачует песнопенье». И поэт творчески рождает: дарует жизнь. Есть и мотив искусства для искусства (скорее романтический): поэт награжден «за звуки звуками, а за мечты мечтами» (и в читателях не нуждается).
Итак, Боратынский, печальный пророк грядущего, отчасти следует Руссо (который осуждал «отрыв от натуры»); и здесь он не выходит из пределов философии XVII-XVIII в.в. Но размышляя о поэзии, о ее таинственной сущности он впадает в умеренный романтизм — романтизм без священного безумия, без откровений, мистики.
Идеи — старые или новые, свои или чужие, идеи просвещенческие или романтические еще не делают поэзию. Ведь Боратынский не только мыслитель, но поэт-мыслитель, перерабатывающий идеи в своем поэтическом хозяйстве. И.С.Аксаков писал, что у него ум «остуживающий поэзию». Да, от стихов Боратынского часто веет «холодом» мысли. И он сам, будучи рационалистом по воспитанию, по пройденной школе, это знал и готов был отбросить подальше «нагой меч» интеллекта. «Всё мысль, да мысль», сетует он говоря о художнике слова — бедном по сравнению с зодчими, ваятелями, музыкантами (1840 г.). И, как мы видели, от дальнейшего развития интеллектуальной цивилизации он добра не ждал. Но что бы Боратынский ни говорил, как бы ни рассуждал, он остается поэтом. Ему удается конкретизировать абстракции в поэзии. Кроме аналитического разума, был у него поэтический дар, особая интеллигенция — эмоция. Его «холодные» стихи имеют свое очарование. Свои размышления он заостряет то необычным выражением, то парадоксальным эпитетом, то очень сложными семантическими сопоставлениями, построениями. И, наконец, есть в его стихах charme, не поддающийся описанию. Некоторые примеры. Вот заглохший Элизий парка (в имении Мара, где он провел детство).
...пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну. (1833).
Это выражение — несрочная весна — восхитило Бунина, и он озаглавил им один из своих рассказов (1923 г.). В другом раннем варианте мы читаем: бессмертная весна; но это шаблон, который читатель равнодушно пропустил бы «мимо ушей». А странная несрочная весна навеки запоминается. У Боратынского вообще очень много таких выражений: отрицательных по форме, но не всегда по смыслу: необщее выраженье (у Музы), незаходимый день (рай), неосязаемые власти (в царстве теней), нечуждая жизнь (в пустыне), нежданный сын последних сил природы (поэт), творец непервых сил (посредственный литератор), благодать нерусского надзора (иностранных гувернеров), храни свое неопасенье, свою неопытность лелей (стихи, посвященные «монастырке» Смольного института). Эти необычные не заостряют его философическую поэзию.
Есть ампирная четкость во многих его формулировках: к чему невольнику мечтания свободы; глупцы не чужды вдохновенья; еще не породив прямого просвещенья, избыток породил бездейственную лень.
Язык лирических стихотворений Боратынского скорее бедный, но эта бедность сознательная, изящная. Немало у него архаизмов или неологизмов, воспринимаемых как архаизмы: чарующий наход (муз), упой, наneчamленьe, безвеселье, лелеятель, навеститель, прыгучий, толковит, емлет… А народных слов почти нет. Все эти приемы свидетельствуют о мастерстве, но charme его поэзии не здесь.
Вот один из самых волшебных стихов Боратынского. - Мы обречены
Любить и лелеять недуг бытия... (Дельвигу, 1821 г.).
Сколько сладости в этих лю и ле[5]; и вообще что может быть лучше этих глаголов: любить, лелеять! Но объект в данном случае — не ребенок, не цветок, не драгоценное воспоминание, а ужасный недуг бытия (смерть, рок). Всё многообразие содержание одного этого стиха могло бы быть изложено в целой книге, а кое-кто из любителей поэзии способен бормотать его всю жизнь.
Творческая вершина Боратынского — стихотворение очень известное, но всё-таки выписываю его целиком:
Не ослеплен я Музою моею;
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он скорей, чем едким осужденьем
Её почтит небрежной похвалой. (1829 г.).
Кого эта Муза Боратынского напоминает? - Не Татьяну ли: «всё тихо просто было в ней» (гл. VIII, строфа XIV). Тихое благородство, простое изящество и Музы, и Татьяны вообще «не поддается описанию»; и эти образы или один этот образ (в двух вариантах)[6] не есть ли «душа», «психея» обоих поэтов и вообще всей русской поэзии? Но под пером Пушкина всё живет, животворит, его Татьяну можно увидеть; а философический Боратынский живостью не обладал, но это его короткое, почти схематическое стихотворение недаром запомнилось. Необщее выражение вошло в обиход речи; но не оно одно, каждый звук, каждое слово, каждый поворот неторопливой речи в этом стихотворении - не может не пленять: здесь красота - бескрасочная, едва намеченная, но побеждающая красоту самую яркую (так и Татьяну не могла затмить блестящая Нина Вронская, Клеопатра Невы). Эта тихая «бледная» Муза Боратынского не прекраснее ли всех других его женских образов (в лирике) - то же не слишком ярких, но более конкретных? Контрастом Музе, которая не любит приманивать блестящим разговором, является красавица, около которой суетились многие поэты, С. Д. Пономарева: ей, невидимому, посвящено следующее стихотворение: Приманкой ласковых речей / Вам не лишить меня рассудка... (1823 г.). В этой пьесе есть тот мотив отречения, который вообще характерен для «эротики» Боратынского (что верно отмечено Сечкаревым). Там отвергается Пономарева; а в послании к Дедии - «бесчарная Цирцея»; в столь известном по романсу Глинки «Разуверении» - то же резиньяция: «Разочарованному чужды все обольщенья прежних дней» (1821 г.).
Интересно сравнить послания и Боратынского, и Пушкина к графине Аграфене Федоровне Закревской (1799-1879). Боратынский «пылал» к вей страстью скорее поэтической, - не очень страстной. Она «ласковая Фея», которая является к нему во сне, и это сонное видение он сразу же анализирует как нечто постороннее. Иногда он её жалеет, иногда иронизирует: «Как Магдалина плачешь ты, / И как русалка ты хохочешь» (она же героиня его поэмы «Бал»). А Пушкин посвятил ей («беззаконной комете») одно из самых пламенно-страстных своих стихотворений[7]:
Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но в стихотворениях, посвященных Боратынским жене, резиньяции нет. Ей дает он своенравное прозванье, выражающее его детскую нежность (Попинька). Высшим же и самым благородным женским образом его лирической поэзии остается Муза.
Основная творческая реальность в мире Боратынского - это уединение. Самое слово это он постоянно твердит, с самой юности, и в стихах, и в письмах. Еще в 1820 г. он создает ландшафт для уединения: это северная суровая Финляндия, «каменная отчизна» или «отчизна непогоды» (где «безжизненна» весна»); здесь он влачил солдатскую лямку, расплачиваясь за ошибку юности; здесь он «изнемогал»; но именно здесь же он родился как поэт. Какая напряженная динамика в этих его стихах о Финляндии:
Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну. (1821 г.).
Есть мотив жалобы в этом стихотворении; но ведь именно эта размолвка с тихим счастьем, эта печаль, это уныние - его, скрыто-страстного поэта-мыслителя, окрыляли; и он «воспарил духом» в своем финляндском уединении. Одно из самых динамичных из его философических стихотворений - это «Бокал» (1835 г.). Он так обращается к этому «бокалу уединенья»:
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин;
Сластолюбец вольнодумной,
Я сегодня пью один.
Стихотворение это странное, слишком странное для эпохи ампира... Если говорить «презренной прозой», то здесь поет «глушит» вино «в одиночку», и это метафорическое «глушение» воспевает! Вот в «одиноком упоеньи» мгла падает с его очей: ему доступны «откровенья преисподней иль небесные мечты»; он «пророк в немотствующей пустыне». Никто до Боратынского не сумел с такой силой передать уединенного опыта творчества, вдохновения. Так, он открывает для русской литературы новый континент, имя которому Уединение. Впоследствии в нем поселился и его заселял Розанов («Уединенное», «Опавшие листья»). Но Колумб этой Америки был Боратынский (для других этот материк имел лишь эпизодическое значение). И другие, не менее странные образы рождаются у него в уединении: например, образ «недоноска» (1835 г.). Недоносок — нечто, казалось бы, не вдохновляющее (в то время); это полу-существо носится между небом и землею; оно «крылатый вздох». Теперь, в ХХ веке, в эпоху наивысшего развития уединенной интеллектуальной поэзии (Рильке, Валери, Т. С. Элиот) не все ли или почти все поэты — «недоноски», от земли оторвавшиеся и до неба не долетевшие; и стихи их тоже «крылатые вздохи». Прав Г. Штаммлер, утверждающий в своей немецкой книге о Боратынском, что он самый современный из всех русских поэтов. Его вдохновляют не только идеи, но что, более существенно для поэта, — самая стихия, атмосфера мысли, уединение, то особенное бытие, о котором он говорит, что «ни сон оно, ни бденье». Можно и Боратынского, и его собратьев-поэтов в ХХ веке «обзывать» декадентами и сближать с теми почти бестелесными созданиями, которые изображены в «Последней смерти». Но это творчество, и всякое творчество, со знаком ли плюса или минуса, следует расценивать по его напряженности, по амплитуде лирических колебаний. Если оно напряженно, оно освобождает; это тот катарсис, о котором говорил «старик Аристотель». И освобождать или возвышать может и творчество светлое (лучшие церковные гимны) и темное («Цветы зла»).
Поэмы Боратынского: все они читаются теперь с трудом. Его северная «Эда» (1824-1825 гг.) приблизительно соответствует южному «Кавказскому пленнику» (1820); это слабый поверхностный романтизм. Поэмы «Бал» (1825-1828 гг.) и «Наложница» (1829-1830) отчасти соответствуют «Евгению Онегину»: здесь происходит т.н. «переход от романтизма к реализму»; но не проще ли и точнее сказать, что в этих пьесах проза (прозаические или считавшиеся прозаическими выражения и положения) вовлекается в поэзию. Но если Пушкин в «Евгении Онегине» достигает своей «высшей точки», то Боратынский со своими поэмами «провалился», хотя и он, и многие его видные современники (Пушкин, Ив. Киреевский), а позднее Брюсов, придавали им значение. Нет, величие Боратынского не здесь... Все характеры в его поэмах схематичны, бледны; и это не та бледность, которая придает столько прелести его Музе с её лица «необщим выраженьем». Эта бледность безличная, скучная. Но всё же удачные стихи в его поэмах имеются. Замечательно, что ряд прекрасных реалистических мелочей или шуточных замечаний рассыпаны в его самой ранней поэме (очень короткой) «Пиры» (1820 г.), где, по счастью, нет героев, героинь, и где многие стихи явно предвосхищают «Евгения Онегина» (который был задуман 2-3 годами позднее). — «Приятно драться; но ей-ей, / Друзья, обедать безопасней»; «Садятся гости. Граф иль князь, / В застольном деле все удалы, / И осушают, не. ленясь, / Свои широкие бокалы»; разнесенный вином гость: «Узнать в гостиную идет / Чему смеялся он в столовой»; или лирическое восклицание: «Как не любить родной Москвы!» Это всё уже отзывается «Евгением Онегиным». Многие же стихи в позднейших поэмах Боратынского обычно рассматриваются, как заимствования из пушкинского романа в стихах (уже появившегося в печати). Но всё-таки тон, чем-то уже близкий «Евгению Онегину», Боратынский намечает еще в «Пирах» (может быть, под влиянием Батюшкова, у которого тоже находим онегинские мотивы). Однако, кое-что «нащупав» и кое в чем предвосхищая Пушкина, Боратынский ничего равного священному писанию русской поэзии — «Евгению Онегину» — не создал. Но в пушкинскую эпоху этот «роман» священным писанием не был; поэтому наш трепет перед этим чудом не был бы понятен ни людям ампира, ни, может быть, самому Пушкину.
Лучшие стихи находим в поэме «Наложница» («Цыганка»); к рассказу, да и вообще к «составу» этой поэмы они отношения не имеют и воспринимаются изолированно:
Что ж! и сомнительное счастье
Мгновенных бедных этих встреч
Ему осеннее ненастье
Не позамедлило пресечь.
Прелесть этой лирической жалобы не поддается определению. Эти ноющие, надтреснутые стихи не «выходят из памяти» и сами собой «бормочутся» (и, как ии хочется притвориться литературоведом, никаких внятных комментариев здесь подыскать не удается).
Боратынский написал еще две коротких поэмы: «Телема и Макар» (1825-1826 гг.), вольный перевод одноименной пьесы Вольтера; что-то от французского XVIII века есть и в сказке «Переселение душ» (1828 г.); обе эти вещи легкие, остроумные, как и забавный очерк «История кокетства» (1825 г.). Эти милые безделицы оправдывают наименование Боратынского «маркизом» (старого режима); но, конечно, это прозвание его не «исчерпывает».
Имя Боратынского часто называется рядом с именем Пушкина. Отношения их остаются неясными. Сколько комплиментов наговорил Пушкин Боратынскому: «Твоя чухоночка, ей-ей, / Гречанок Байрона милей» (о поэме «Эда»); он «поэт пиров и грусти томной»; и ему следовало бы перевести «иноплеменные слова» в письме Татьяны (гл. III, XXX); он поэт-мыслитель, Гамлет... Но величия очень выверенной и затаенно-страстной интеллектуальной поэзии Боратынского, его мира уединения, Пушкин не понял, как не понял и Тютчева, ибо в плане творческом оба они по-настоящему ему не были близки; эта слепота гения — вполне естественная (так и Гёте был слеп к Гёльдерлину. И. И. Щеглов-Леонтьев высказал предположение (1900 г.), что Боратынский прообраз Сальери (и ему, к сожалению, «подтявкивал» Розанов!). Брюсов этот домысел резко опровергает. Кто был прототипом Сальери - вопрос вообще досужий. С тем же «неуспехом» можно было бы сказать, что это Вяземский! И не без успеха можно утверждать, что сам Пушкин - и Моцарт и Сальери, ибо божественную гармонию своей поэзии он «проверял» алгеброй разума...
Боратынский в «Пирах» называет Пушкина ветреным мудрецом, наперсником шалости и славы; а в письме к нему восклицает: «Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел ее между державами» (1825); в другом же письме восхваляет «Евгения Онегина» за обширный план, поэтическую простоту и изображение всей России, старой и новой (1828 г.). Но в письме к Ивану Киреевскому он пишет, что Татьяна «не имеет особенности», и что это произведение «блестящее, но почти всё ученическое» (1832 г.). Этот отзыв воспринимается теперь как кощунственный. Но, может быть, он был прав, порицая Пушкина за использование фольклорного материала в «Сказке о царе Салтане»: он считает, что материалы народной поэзии следует оставить в их «первобытном виде» (Киреевскому, 1832 г.). Смерть Пушкина производит на него «громовое впечатление» (Вяземскому, 5 февраля 1837 г.); но в том же письме он замечает, что талант его может быть не достиг «своего полного развития» и что «он погиб на поединке как неосторожный мальчик». Можно говорить вообще о некоторой холодности его отзывов о Пушкине. С большим энтузиазмом он восхваляет тогдашнего общего любимца — звонкого Языкова, которого баловали восторженными похвалами все поэты (включая Пушкина). Но домыслы «о зависти» его к Пушкину неубедительны. Непонимание же самого существенного друг в друге было взаимным: оба они жили в разных мирах: один открывал и заселял материк Уединения, а другой отзывался на все доступные ему впечатления бытия. И при этом Боратынский, пытаясь иногда расширить круг своего творчества, делал не свое дело (писал поэмы, удачные лишь в немногих частностях). Боратынский узок по сравнению с Пушкиным, но глубине проникал в глубину (к корням вещей) и выше — в высоту (туда, где вещи кончаются). И если Боратынский иногда «зарывался», подобно его «недоноску», то Пушкину было свойственно гениальное скольжение по поверхности; но мышление их и творчество были равно отчетливы; оба были «людьми ампира», не романтическими безумцами, хотя и отдали дань увлечению романтизмом.
Боратынский почти не откликается на современные события. Это свидетельствует о его «узости»; но за это укорять его никак нельзя: каждому свое... В юности он был, по-видимому, либералом неопределенного направления и написал эпиграмму на Аракчеева («Отчизны враг, слуга царю...»), которого он приравнивает к владыке преисподней; но эпиграмма эта не имела распространения и была найдена недавно, в 1936 г. Он не наполнял Россию «возмутительными стихами», как Пушкин или Вяземский. Об его отношении к мятежу 14 декабря 1825 г., кажется, ничего неизвестно. Но и позднее он остается противником крепостного права и либералом, однако без иллюзий, и поэтому он не пытается «переиначить свет» (его собственное выражение) и не откликается на реакцию сатирами. «Поэзия веры не для нас», — пишет он И.В.Киреевскому (1832 г.). При этом под «верой» он подразумевает «просвещенный фанатизм», представителем которого он считал Анри-Огюста Барбье, автора революционных сатир. «Поэзия индивидуальная одна для нас естественна», хотя время ее прошло, а другое еще не созрело (Киреевскому и Вяземскому, в том же году). Почему? — Потому что «нашей мысли нет форума», нет общественности (Рифма, 1840 г.). Вообще же, Боратынский предпочитает отмалчиваться. Во время пребывания в Париже он пишет (с одобрением) Н.В.Путяте: «Несколько ясных мыслей общежития сделались достоянием каждого» (во Франции), ноябрь 1843 г. Там же он сближается с эмигрантом Н.Огаревым. В декабрьском письме того же года к Путяте он поздравляет его с новым годом, а также «с нашими степями», с морозной зимой и с тем, что «мы в самом деле моложе 12 днями других народов и посему переживем их, может быть, 12 столетиями». Каждую из этих фраз он берется доказать научным образом, но не делает этого, ибо «теперь не время». Тут, вероятно, имеется в виду цензура. Несомненно, он был противником реакции, но, прямо не осуждая правительства, он нигде его и не одобряет, вообще, сторонится политики и даже истории, в противоположность Пушкину, «певцу империи и свободы». В его же поэзии и империя и революция «не ночевали», а свободе он служил в уединении, «в глуши смиренной».
Боратынский был чужд традиционной темы русской поэзии — темы России. Два его стихотворения наименованы «Родина»; но здесь и в других близких ему стихотворениях родина — это его имения, в особенности тамбовское Мара. Всю же Россию в героини он не возводит (и не есть ли его локальный домашний «национализм» — самый крепкий, здоровый?). Вообще, ничего специфически русского в Боратынском нет. Он самый космополитический русский поэт; однако, едва ли можно считать его и беспочвенным (кстати говоря, беспочвенность «не преступление» и может быть творческой); он носился «недоноском» между небом и землей, но не был «эфирным», «нервным»; его мысли беспокойные, часто «странные» («Последняя смерть»), но излагает он их спокойно, отчетливо, и за ним чувствуется какой-то обеспеченный быт (среднего поместного дворянства). Он любит сажать деревья, воспевает «посадку леса», и этого рода мирные занятия действовали на него успокоительным образом. Тяжелые мысли осаждали Боратынского, он всегда казался меланхоличным (по воспоминаниям Путяты, Павлищева, Эртеля, Вяземского), но его омраченный дух обитал «в здоровом теле»: он был солдатом, офицером, потом деятельным помещиком, много двигался... И в своем философическом уединении жил полной жизнью, как еще жил Толстой (но уже не Бунин).
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною,
Но в грани тесные втесненная судьбою
жалуется он, но, жалуясь, ведь утверждает, что жизнь бьет могучею волною! В серебряный век русской поэзии — эта волна уже отхлынула и «била» еще лишь в сердце Блока (но не Анненского).
Кто из поэтов влиял на Боратынского? Этот вопрос не выяснен и большого значения не имеет, ибо всё чужое он переработал. Влияли французские поэты XVIII века от Вольтера до Парни, влиял Байрон (во французском переводе); из русских поэтов — Богданович и в особенности Батюшков. Тем же влияниям подвергался Пушкин. Многие ранние стихи Боратынского звучат совсем по-6атюшковски: в них та же сладость звуков, тот же замедленный ритм выверенной речи в элегиях:
Зачем, о Делия! сердца младые ты
Игрой любви и сладострастья
Исполнить силишься мучительной мечты
Недосягаемого счастья. (1821 г.).
Всему этому научил сладостный Батюшков, но Боратынский был поэт горестный и отравил батюшковскую элегию едкими размышлениями, элегичность совместил с дидактичностью поэтов XVIII века, и за это его иногда укоряли (Дельвиг в письме к Пушкину, 1824 г.). Но в этом совмещении сладкого и горького — всё своеобразие Боратынского. Очень характерно это его стихотворение, написанное за год до смерти (Люблю я вас, богиня пенья, 1843 г.):
...Любовь Камен с враждой Фортуны —
Одно. Молчу! боюся я,
Чтоб персты, падшие на струны,
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.
И отрываюсь, полный муки,
От музы, ласковой ко мне,
И говорю: до завтра звуки,
Пусть день угаснет в тишине.
Сладостно звучат эти слова муки, музы, но сладость этих стихов отравляет не только смысл (тема стихотворения: страх перед судьбой); гармонию нарушает здесь напор, быстрота реки, краткость выражения: Любовь Камен с враждой Фортуны — одно. Молчу! Боюсь я... Эти одно, молчу (значение которых не сразу уясняется) звучат, как удары топора и вдребезги разбивают прекрасную вазу элегий ампира. Топорны и многие инверсии Боратынского: «Предрассудок! Он обломок / Давней правды. Храм упал; / А руин его потомок / Языка не разгадал...» (мысль ясна, но чтобы ее уяснить, читателю нужно будет переставить слова.). Переходя на язык формалистов, можно сказать, что Боратынский остраннил приятную, и может быть даже слишком приятную гармонию батюшковских элегий неприятной, но очень выразительной протокольностью (коротких предложений) или иногда инверсиями и, таким образом, создал свой собственный стиль. Или же: если элегии Батюшкова эмоциональны, но бедны мыслью, то элегизм Боратынского преимущественно интеллектуальный (и «богатый» мыслью). Интеллектуальность его выразилась также в умении формулировать. И все эти и другие приемы, иногда очень сложные, неуловимые, придают поэзии Боратынского прелесть «необщего выражения».
Очень точны критические суждения Боратынского «Дарование есть поручение», — писал он Плетневу (1831), но кто именно поручает его поэту — он не знал. Стихи свои он тщательно отделывает (как и все поэты ампира), а также и письма (эпистолярная проза тогда культивировалась). Но, заметил он однажды, «в произведениях поэзии, как в творениях природы, близ красоты должен быть непременно недостаток, её оживляющий» (Вяземскому, 1830 г.). В том же письме он говорит, что из лирической поэзии должно быть исключено остроумие (которое «противу свойственно её увлеченности») и, в особенности, всё затейливое и изысканное (безвкусица). Чем должен обладать поэт? — Ответ находим в одном его отзыве (о «Тавриде» А. Н. Муравьева, 1827 г.): «Пламенем воображенья творческого и холода ума проверяющего». Это очень четкое ампирное суждение, совпадающее по существу с известным пушкинским определением умного, уравновешивающего вдохновения, противополагаемого непостоянному восторгу (возражения на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине», 1824 г.). «Проверять» стихи Боратынский умел: очень логично разбивает он аргументы Надеждина, «классика» из семинаристов, который уподобил произведения Боратынского и Пушкина прыщам... («Антикритика», 1831 г.).
Сравн. с пушкинскими стихами:
Как уст румяных без улыбки, /
Без грамматической ошибки /
Я русской речи не люблю («Евгений Онегин»).
Публика — немногочисленные читатели ампира — интересовались Боратынским в 20-х гг., но уже в 30-х гг. его начали забывать. Новый литературный законодатель, Белинский, не так уж плохо разбирался в Боратынском; стихотворение, посвященное музе, он находит прекрасным, а «Последнюю смерть» считает «апофеозой» его философии; во он же менторски-самонадеянно укоряет Боратынского за недоверие к просвещению, прогрессу; и именно поэтому он был надолго отлучен от литературы. Чернышевский утверждает, что его «губило отсутствие мысли»... С.А.Андреевский, автор замечательной «Книги о смерти», хотел снять с Боратынского отлучение, наложенное Белинским, но попытка его была очень уж робкой. Вл. Соловьев ничего в Боратынском не поняв, его осуждает за безверие («за принятие некоторых материалистических данных за истину»: "Вестник Европы", 1895 г.). В. Брюсов, написавший ценные академические работы о Боратынском и давший неплохой разбор его поэзии, поэта уединения по существу не понял (как и Андрей Белый). В начале ХХ века Боратынского опять начали читать, но без энтузиазма. Почему именно — догадаться нетрудно: пусть метафизика опять «вошла в моду», но философские ответы ценились тогда больше, чем философские вопросы. Символисты отзывались на Жуковского, Лермонтова, Тютчева, что-то приоткрывавших — небо или хаос. А у вопрошающего авгора «Сумерек» этих романтических откровений не было. Только теперь Боратынский может быть оценен по заслугам, особенно при сопоставлении его с современными поэтами Запада (Рильке, Валери, Т.С.Элиот). Он не только поэт-мыслитель, самая стихия мысли является для дего источником вдохновения «он создает для нее своего рода интеллектуальный ландшафт — сперва конкретный (суровая Финляндия), а потом всё более отвлеченный, но художественно убедительный (Уединение). Необщее выражение, песрочная весна или крылатый вздох — вот бесплотные, но иезабываемые образы его абстрактного поэтического мира.
Просвещенцев XIX века опьянял прогресс, символистов — их апокалиптические чаяния. Но ни то, ни другое больше не опьяняет; мы отрезвели; и мы невольно отзываемся на Боратынского, который пил, не пьянея, из своего «бокала уединения». Его поэзия холодная, но не мертвая: есть в ней нечто вечно-живое — будящая творческая мысль — очень неподкупная, чуждая иллюзий (будь то вера в прогресс или в эсхатологический happy end мира у романтических символистов). Hо сколько скрытой силы, страсти за каждой его мыслью, воплощенной в поэзии. Есть подвижничество в его интеллектуальном служении:
Недаром ты металась и кипела,
Развитием спеша;
Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа! (1840).
Адамович в своем предисловии к антологии зарубежной поэзии называет его «одним из немногих великих, настоящих учителей-поэтов» (1936 г.). Самое название этой книги — «Якорь» — он заимствовал из Боратынского:
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ! (1844 г.)
Но вопросы, которые он тогда решил, окончательными не были.
Род Боратынских — польский, древний. Один из его предков в XIV веке владел замком Божия 06opoнa, или Boratyn; и его потомки начали подписываться этим последним именем. Позднее польские Боратынские захудали и переселились в Россию (в XVII в.). Отец его, генерал и сенатор Абрам Андреевич Боратынский (1767-1810) был недолговечным фаворитом Павла 1-го; он женился на любимой фрейлине императрицы Марии Федоровны - Александре Федоровне Черепановой. Родители, особенно мать, обожали своего первенца - тихого, смышленого мальчика Евгения, Бубиньку. Он родился 19-го февраля 1800 г. в тамбовском имении Мара. Его детство было счастливым «золотым». Из воспитателей своих Евгений был более всего обязан своему «дядьке-итальянцу» Воргезе. В 1812 г. он поступает в пансион, а потом в Пажеский корпус. Из Петербурга он пишет матери грустные письма: ему, баловню семьи, с чужими неуютно: «Пока у меня было яблоко или что другое, все были моими друзьями, но потом всё было опять потеряно». Немало в его отроческих письмах к матери и философии: «Ne volidraitilpas mieux etre un igliorant heurenx qu'rni savant malhelireux». Эти мысли могли быть навеяны Руссо. Но можно найти и «романтизм»: «я бы предпочел в полном смысле несчастье невозмутимому покою»! Через несколько лет тихий глубокомысленный мальчик попадает в компанию шалунов, с которыми по вечерам поедает конфеты фунтами (на чердаке). Деньги на эти кутежи выкрадывает один из его товарищей, Приклонький, у своего отца, камергера. В феврале 1816 г. Боратынский и его приятель Ханыков, по отъезде младшего Прикловского, получают от него ключ от отцовского бюро и забирают оттуда черепаховую табакерку и 500 рублей ассигнациями. Лишь часть денег удалось им «пролакомить». Их поймали и исключили из корпуса, без права поступления в какое-либо другое учебное заведение. Это была катастрофа. Но семья его всё сделала, чтобы смягчить этот удар судьбы. Никто его не укорял. Евгений отдыхает в смоленском имении дяди-адмирала. Его окружает атмосфера участия, любви. Но всё же ему дорого пришлось заплатить за свой проступок, совершенный в переходном возрасте; чтобы стать полноправным членом общества, ему оставалось одно: поступление рядовым на военкую службу. В 1819 году ои зачисляется в лейб-гвардии егерский полк, в Петербурге. Здесь печатаются его первые стихотворения: здесь он знакомится с Гнедичем, Кюхельбекером, Рылеевым, Плетневым, Пушкиным и в особенности сближается с лучшим другом поэтов — Дельвигом; а лучший предстатель за поэтов, Жуковский, хлопочет за него у государя, но безуспешно. В 1820 г. Боратынский переводится в нейшлотский полк, стоявший в «каменной отчизне», Финляндии. Здесь он «находит свое лицо» поэта. Солдатский мундир тяготит его, но полковой командир Лутковский старается по возможности смягчить его участь. В 1824 г., в Гельсингфорсе, генерал-губернатор гр. Закревский делает смотр нейшлотскому полку. Его адъютант, Н.В.Путята, после парада спешит познакомиться с поэтом, облаченным в солдатский мундир. В будущем — Путята (1802-1877) — его лучший друг. Вскоре Боратынский знакомится и увлекается женой Закревского, Аграфеной Федоровой. После пятилетнего пребывания в Финляндия он, наконец, производится в офицеры (в 1825 г.) и в том же году подает в отставку. В 1826 г. он женится на Анастасии Львовне Энгельгардт (1804-1860), дочери генерала и автора известных в свое время «Записок». Следующие 17 лет Боратынский с семьей живет то в Москве, то в своих имениях — тамбовском и московских. Может быть, характеристика помещика, героя его единственной (и мало удачной) повести «Перстень» приложима к нему самому: он «сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство, — словом, был счастлив». Но странно звучит это его признание Плетневу (в 1839 г.): «Эти последние десять лет существования... были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения». Многие лица, близко его знавшие, говорят, что он был счастлив в семейной жизни, но известно также, что очень ревнивая жена понемногу отваживала от поэта всех друзей. А он писал лучшему другу Путяте (еще в 1828 г.): «Женатые люди имеют более нужды в дружбе, нежели холостые», которых развлекает волокитство; семейному же человеку необходим «бодрый товарищ, равносильный ему умом». Вообще же, о его внутренней жизни, о его размышлениях в уединении, мы знаем очень мало. Вяземский говорит о его сдержанности, молчаливости; он не любил «выкликать прения», но вместе с тем умел «выражать окончательный приговор» по чуждым ему вопросам, будь то внешняя политика или немецкая философия. Вот его характеристика в «Старой записной книжке» Вяземского: «Аттическая вежливость, с некоторыми приемами остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном и резко определенном, все эти качества., все эти прелести придавали его личности особенную физиономию». Портрет этот очень ампирный — мраморный, хотя и несколько психологизированный. Но о разъедавших его думах (о последнем поэте или последней смерти) поверхностный Вяземский понятия не имел; и «обглоданная» мыслью «адамова голова» скульптурного портрета Боратынского лучше выражает его личность, чем этот литературно «изваянный» набросок Вяземского.
В 1843 г. Боратынский едет с семьей в Париж, где посещает салоны, знакомится с Виньи, Тьери, Сен-Бёвом, Мериме, но быстро устает от этого литературного высшего света. Его оживляет свидание с Италией, с которой он «породнился душой» в отрочестве, слушая восторженные рассказы дядьки-итальянца:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной.
(«Пироскаф», 1844 г.).
«Мы ведем самую сладкую жизнь», — пишет он Путяте того же года, из Неаполя. Это его последнее письмо. С его женой сделался нервный припадок. Евгений Абрамович взволновался, тоже слёг, и на другой день, 29 июня 1844 г., неожиданно скончался, до вызова доктора. В августе 1845 г. состоялось погребение Боратынского в петербургской Александро-Невской лавре.
Из откликов на его смерть (в печати их было немного) хочется выделить слова простодушного Нащокина (в письме к поэту Н.М.Коншину). Здесь имеются в виду Пушкин, Дельвиг и Боратынский: «Спасибо им, что пожили с нами и любили нас». Вот поистине добрые слова, сказанные от чистого сердца. Это лучший венок на могилу трех рано умерших поэтов, принадлежавших к Граду Друзей незабвенной эпохи
Печ. по: Иваск Ю. Боратынский// Новый журнал. — 1957. — № 50. — С.135-156.
[1] А.С.Пушкин, Боратынский (1830 г.), эта статья при жизни напечатана не была.
[2] Н.В.Гоголь, Выбранные места, гл. XXXI, 1846.
[3] Лишь начало его совпадает со стихотворением Байрона «Darkness».
[4] Замечательно также менее оригинальное стихотворение «Последний поэт» (1833-1834 гг.). Здесь «железный век» убивает фантазию; на земле уже нет уединения, столь драгоценного для Боратынского, и «последний поэт» кончает самоубийством.
[5] Вообще же эвфония у Боратынского встречается не часто. Вот некоторые примеры: изнемогал без укоризны изгнанник молодой; и громкой песней ранний петел мне утро возвещал (и здесь же две «грозди» согласных: гр и тр).
[6] Третий вариант этого образа: пушкинская муза (в VIII гл. «Евгения Онегина»).
[7] Оба поэта обратились с посланиями и к княгине Зинаиде Александровне Волконской (1792-1862) по случаю отъезда её в Италию. Начало этих стихотворений отчасти совпадает: Среди рассеянной Москвы, / При толках виста и бостона (Пушкин, 1828); И - царства виста и зимы... (Боратынский, 1829).